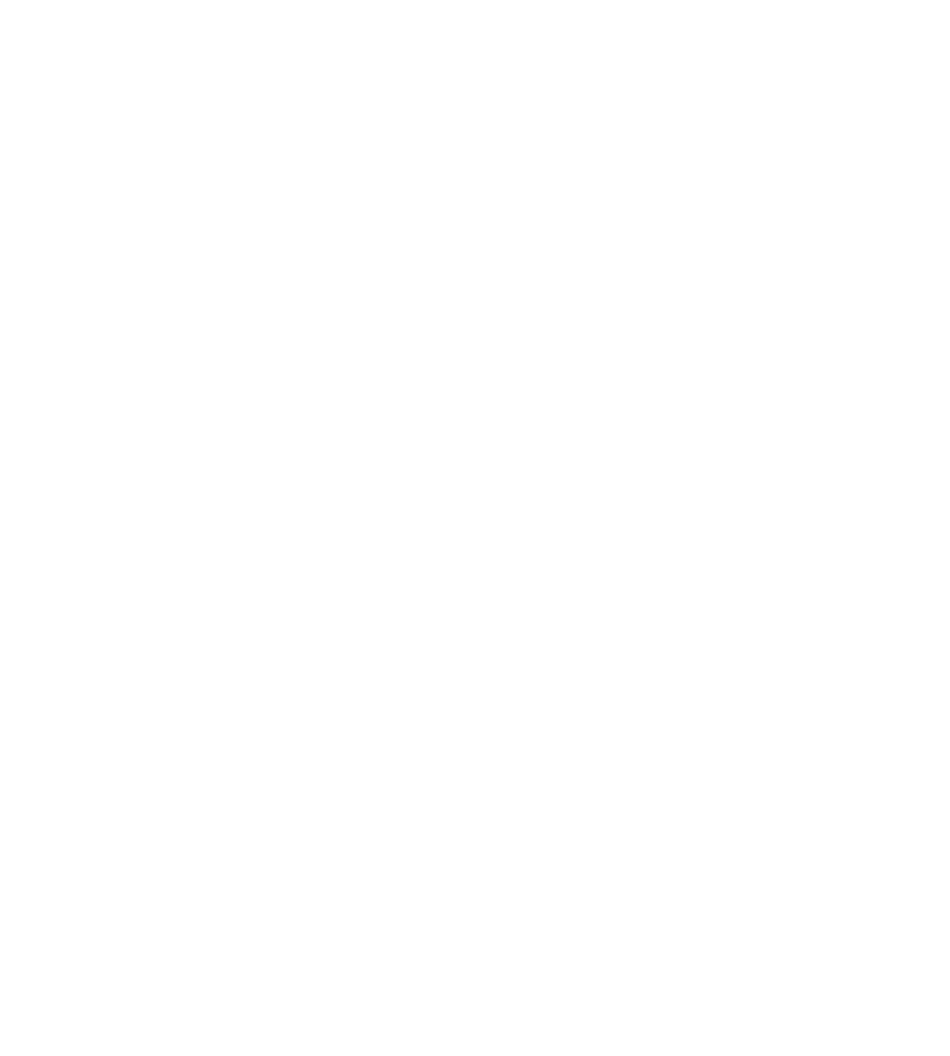На его картинах мы часто видим деревья. Он и сам похож на дерево. Только не на то, что возвышается где-нибудь в саду, взлелеянное заботливой рукой, – скорее на то, что само по себе выросло у дороги или на пустыре. Крепкое, высокое, не гнется оно на ветру. Вот одиноко застывший на одном из ранних полотен инжир, некрасивый, но выразительный; скособоченные ветви навевают смутную тревогу. Проходят годы, и на полотнах художника появляются зардевшаяся шелковица, цветущая вишня, заснеженная айва... Это тревога сменилась приятием природы. Проходят еще годы, и само впечатление о природе – о родном для художника Каспии, привычном для него Абшероне – вытесняет все опознавательные знаки. Остается лишь напоминание о переменчивом Каспии и строгом Абшероне, неказистом инжире и ликовании весны... Вот этот поздний Фархад Халилов и есть самый многозначный.

–§–∞—Ä—Ö–∞–¥–∞ –•–∞–ª–∏–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –∞–±—Å—Ç—Ä–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–∏—Å—Ç–æ–º. –ù–æ –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞—Ö –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —Ñ–∏–≥—É—Ä–∞–Ω—Ç–∞ –Ω–µ—Ñ–∏–≥—É—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–∏ –î–∂–µ–∫—Å–æ–Ω–∞ –ü–æ–ª–ª–æ–∫–∞ –±–µ—Å–Ω—É–µ—Ç—Å—è —Ä–∏—Ç–º, –∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω–∏—â–∞—Ö –ú–∞—Ä–∫–∞ –Ý–æ—Ç–∫–æ –ø—É–ª—å—Å–∏—Ä—É–µ—Ç —Ü–≤–µ—Ç–æ–∫–æ–º–±–∏–Ω–∞—Ü–∏—è –æ–≥–æ–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ—Ä–≤–∞, —Ç–æ –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ö –•–∞–ª–∏–ª–æ–≤–∞–ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–µ—Ç —Ç–∞–π–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞. –ù–∞ –µ–≥–æ —Ö–æ–ª—Å—Ç–∞—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ –º–æ—Ä–µ, –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–µ–Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –ó–µ–º–ª–∏, –∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ä–æ–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏–∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∞—Å –ø—Ä–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Å —ç—Ç–æ–π –Ω–µ—É–∫—Ä–æ—Ç–∏–º–æ–π—Å—Ç–∏—Ö–∏–µ–π. –ù–µ –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –ø–µ–π–∑–∞–∂ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è–ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞—à–∏–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏, –∞ –ø—É—Ç—å, –≤–µ–¥—É—â–∏–π –∫ –Ω–µ–º—É.–§–∞—Ä—Ö–∞–¥ –•–∞–ª–∏–ª–æ–≤ ‚Äì –≤–æ–∏–Ω. –≠—Ç–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –ø–æ–≤—Å–µ–º—É. –ü–æ —Ç–æ–º—É, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç, –Ω–æ –Ω–µ—Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è ‚Äì –∑–∞—â–∏—â–µ–Ω —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –±—Ä–æ–Ω–µ–π. –ü–æ—Ç–æ–º—É, –∫–∞–∫ –≤–¥—Ä—É–≥ —É–¥–∞—Ä—è–µ—Ç –ø–æ —Å—Ç–æ–ª—É, ‚Äì –Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ–º—É–¥–∞—Ä–µ –Ω–µ –∑–ª–æ–±–∞, –∞ —ç–ø–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Å–∏–ª–∞. –ü–æ —Ç–æ–º—É,–∫–∞–∫ –Ω–µ –ø—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –∏–≥—Ä–∞—Ç—å ‚Äì –≤ –º—É–∂—á–∏–Ω—É, —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∞,–ª–∏—Ü–æ, –æ–±–ª–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤–ª–∞—Å—Ç—å—é... ¬´–°—Ç–∞—Ä—ã–π –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª¬ª,‚Äì –Ω–∞–∑–≤–∞–ª –µ–≥–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç–æ—Ä –§–∞–∑–∏–ª—å–ù–∞–¥–∂–∞—Ñ–æ–≤, –Ω–æ —ç—Ç–æ—Ç –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª, —Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –≤–ª–∞–±–∏—Ä–∏–Ω—Ç–∞—Ö —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥—É—Ö–∞, –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞–µ—Ç –Ω–µ–±–∞—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å—Ü–µ–Ω—ã –∫—Ä–æ–≤–∞–≤—ã—Ö —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–π, –∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–º–∏ –Ω–∏–∑–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–µ–π. –û–Ω ‚Äì –ø–∏—à–µ—Ç–º–µ—Ç–∞—Ñ–∏–∑–∏–∫—É –ø–æ–∏—Å–∫–∞.
Подбор материалов о герое предстоящего интервью – дело обычное. Так было и в Вашем случае, но ни книг о творчестве Фархада Халилова, ни публикаций о его выставках в Баку я не нашла. Тогда как выяснилось, что за пределами страны выставляетесь Вы довольно часто, особенно в Москве...
В Баку я не выставлялся по нескольким причинам. Во-первых, из-за положения моего отца. Не то чтобы оно меня тяготило – я просто понимал, что люди ко мне необъективны. Одни неискренни, другие подобострастны...Как-то позвонил мне Гриша Анисимов, а он много писал о наших художниках, очень любил Азербайджан. Он посмотрел мои работыи отнес фотографии картин в редакцию московского журнала «Юность». Там в свое время проводились выставки левых художников, в основном московских, конечно. В журнале заседало очень серьезное жюри – редакцияне просто выполняла функцию площадки для демонстрации работ. И вот звонит мне как-то Гриша и говорит: «Жюри ознакомилось с материалом и одобрило проведение выставки». Это было в 73-м году, и по тем временам это было событием серьезным: выставка в столице, со статьей в журнале «Юность», которая выходила миллионным тиражом... Для Баку это было делом нечастым. Спустя время, в 76-м, прошла большая персональная выставка, посвященная Испании. В Испании я оказался двумя годами раньше. Там я нашел много общего с Абшероном: каменные заборы, оливы, виноградная лоза, растянувшаяся на песке, да и люди очень на нас похожи. Можно было встретить совершенно рыжего, как в наших горах, парня, и в то же время – чернявого. Этот близкий нам диапазон контрастов заставил меня задуматься: «Какого черта я забрался так далеко, чтобы увидеть то, что и без того вижу у себя на родине?!». Вернувшись из поездки,я стал писать картины об Испании. Вскоре мне поступило предложение из Москвы... Эта выставка была знаменательна еще и тем, что состоялась через год после смерти Франко – когда в Советском Союзе после сорокалетнего перерыва появился первый испанский дипломат. Сегодняшнему человеку сложно понять, что это такое для молодого художника: открыть вторую персональную выставку за столь короткий срок, и не где-нибудь, а в советской Москве. Я очень люблю Испанию. Это связано и с Лоркой, и с живописью... Вообще все лучшее,на мой взгляд, вышло оттуда. Хотя самая важная фигура в живописи для меня – это все же Ван Гог.


«Очень много лишнего вокруг, от чего надо уметь отказываться», – сказали Вы как-то в интервью. Ваше обращение к беспредметности и есть этот отказ от лишнего?
Я бы не сказал, что отошел от фигуративной живописи. Один критик после моей выставки в Лондоне написал: «Этот художник нашел прекрасный баланс между реальностью и абстракцией». С этим я, пожалуй, соглашусь. Меня никогда не увлекали помпезность, излишество... Ни в творчестве, ни в окружающей действительности. Мне нравилось все средневековое, первобытное... И живопись моя, в принципе, тоже не изменилась. Я просто избавился от лишнего и продолжаю избавляться. Вот так бы я объяснил суть своих действий в искусстве.
–ù–æ —ç—Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω—ã–º, –∞ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω—ã–º...
Все началось с картины «Гора». Я написал ее в 1983 году. Она вырвалась из меня неожиданно, а следом за ней – еще и еще... Потом я пытался вернуться к тому, что делал раньше, но вдруг заметил: выскакивают из меня совершенно неожиданные работы. Так появился цикл под названием «Встреча».
–ß—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–æ–ª—á–∫–æ–º –¥–ª—è —ç—Ç–∏—Ö –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–π?
Наверное, моя эволюция. Это ведь не сразу происходит. Делая обычные для себя картины, я ловил себя на том, что в голове появляется целый ряд новых изображений, которые затем оказывались на холсте. Постепенно они перетянули меня на свою сторону, и я ушел к ним. Я удивляюсь, когда мои картины называют абстрактными, – для меня они абсолютно реалистичны.
–í –í–∞—à–∏—Ö –ø–æ–∑–¥–Ω–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ö –æ—á–µ–Ω—å —Å–∏–ª—å–Ω–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞—Ü–∏—è —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–∏. –≠—Ç–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –Ω–µ–∫–æ–π –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–∏ –∏–ª–∏ —Å—Ç–∏—Ö–∏–π–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –í–∞—à–µ–≥–æ —Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞–º–µ–Ω—Ç–∞?
Это часть меня. В молодости, если я не писал каждый день, у меня случался стресс. Сегодня могу просто смотреть на картину, которая находится в процессе создания. Это не значит, что я не рисую, напротив – может, даже еще плодотворней, чем если бы писал на самом деле. Потом, когда берусь за работу, кисть делает свое. Я и сам этому удивляюсь... Порой возникает чувство непричастности – будто не я их написал, а кто-то другой, но, несмотря на это, присутствует волнение. Вот эти картины мне дороги больше всего. Я практически живу в мастерской. Никогда не работал в городе. Долго мигрировал по Абшерону, снимал мастерские в селах, а после Испании выбрал Нардаран.
–í–∞—Å –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–ª–∞ –∞—Å–∫–µ—Ç–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞?
Да, инжирники, пески и народ такой... непростой. Нардаран вообще место тяжелое, ну, я ведь тоже человек нелегкий. Когда мне говорят: «Ты счастливчик! Сидишь там себе, рисуешь», – я отвечаю: «А вам что мешает? Идите и вы сидите».
–í–∞—à–∏ –¥—Ä—É–∑—å—è —É–¥–∏–≤–ª—è—é—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –í—ã –º–æ–∂–µ—Ç–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ç–∞–∫ –¥–æ–ª–≥–æ?
–Ø –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–æ. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –æ–¥–∏–Ω–æ–∫ –∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ, –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é.

Почему же тогда «к сожалению»?
–ê –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å—Ç–∞—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏–∑–±–µ–∂–∞—Ç—å, –æ–±–º–∞–Ω—É—Ç—å –µ–≥–æ, –∏ –æ—Ç—á–∞—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –¥—Ä—É–∑—å—è–º, –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º... –ò–º–µ–µ—Ç –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –∏ —Å–µ–º—å—è, –¥–µ—Ç–∏ –∫–∞–∫ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –∂–∏–∑–Ω–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –í—Ä–µ–º—è –æ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —É –º–µ–Ω—è –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Å –±–ª–∏–∑–∫–∏–º–∏ –ø–æ –¥—É—Ö—É, –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å... –ù—É –≤–æ—Ç –∏ –≤—Å–µ. –Ø –ª—é–±–ª—é –æ–±—â–µ–Ω–∏–µ, –ª—é–±–ª—é —Å–≤–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥, –Ω–æ –Ω–µ –º–æ–≥—É –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è —Å—Ä–µ–¥–∏ –ª—é–¥–µ–π. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—é—Å—å –≤ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫—É—é. –Ý–µ–¥–∫–æ –∫–æ–≥–æ –ø—É—Å–∫–∞—é –∫ —Å–µ–±–µ. –ú–æ–∏ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—ã –º—É—á–∞—é—Ç—Å—è –æ—Ç –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏—è —á—É–∂–∏—Ö, —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—é—Ç –æ—Ç –Ω–µ–ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –Ø –≤–∏–∂—É —ç—Ç–æ ‚Äì –≤–∏–∂—É, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –º–µ–Ω—è—é—Ç—Å—è –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö, –∏ –º–Ω–µ –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –±–æ–ª—å–Ω–æ. –î–ª—è –æ–±—â–µ–Ω–∏—è —Å —Ö–æ–ª—Å—Ç–æ–º –º–Ω–µ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–µ —É–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ. –ü–æ—Ç–æ–º—É —è –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é, —É–¥–∞–ª–∏–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π —Å—É–µ—Ç—ã. –ú–µ–Ω—è –∂–¥—É—Ç –º–æ–∏ —Ö–æ–ª—Å—Ç—ã, –∏ —è —Å—Ç–∞—Ä–∞—é—Å—å –Ω–µ —Ä–∞–∑–ª—É—á–∞—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∏–º–∏ –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ ‚Äì –æ–Ω–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ä–µ–≤–Ω–∏–≤—ã.
–í—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ —á–∞—â–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –∫ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–π –ø–∞–ª–∏—Ç—Ä–µ...
Она у меня и прежде не была особенно горячей. Никогда я не был красочным. Знаете, было время, когда я вообще решил не рисовать. Думал: «Что я – раб природы?! Иду, смотрю, прихожу, рисую...». Я жил с этими мыслями, чувствовал себя несвободным...
–ß–µ–º –±—ã –í—ã –∑–∞–Ω—è–ª–∏—Å—å, –µ—Å–ª–∏ –±—ã –∑–∞–±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å—å?
–ù—É, —ç—Ç–æ —è —Ç–∞–∫, —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–∞–º —Å —Å–æ–±–æ–π. –î—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–Ω–∏–µ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ—Ç –º–µ–Ω—è –∫ –±–æ–ª–µ–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –≤ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ.
–ò –¥–æ–ª–≥–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ—Ç –∫—Ä–∏–∑–∏—Å?
Почему же кризис? Наоборот, мне казалось – я с истиной рядом... Но тут меня избрали председателем Союза, и с тех пор я стал рисовать еще плодотворнее, используя каждую свободную минуту. Вот, все неслучайно в этой жизни.
–í–µ–¥—å —ç—Ç–æ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∏ –≤—ã–±—Ä–∞–ª–∏ –í–∞—Å –≤–ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–∏?
Да, был съезд, он шел две ночи, на нем присутствовал первый секретарь ЦК компартии Азербайджана. Партийной группой был выдвинут другой кандидат, но ему не удалось заручиться большой поддержкой. Свои голоса художники отдали в мою пользу. Поначалу ко мне не было доверия со стороны художников, наделенных властью: я был беспартийный, без регалий, ходил босой, ездил на «газике» с открытой крышей... Мои оппоненты, помню, говорили: «Если он хоть год продержится, мы поменяем свои имена». Но они упустили одно – свойственное мне чувство ответственности. А это самое важное качество в человеке.
–í–µ—Ä–Ω–µ–º—Å—è –∫ –Ω–∞—á–∞–ª—É... –ö–æ–≥–¥–∞ –í—ã —É–≤–ª–µ–∫–ª–∏—Å—å –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å—å—é?
Детские свои рисунки я забыл. Их, можно сказать, почти и не было... Помню, как записывался в Дом пионеров, который находился за углом нашего дома. Долго я там не продержался: что-то там оказалось не по мне... В классе четвертом или пятом в нашей школе появился замечательный педагог – Юрий Яковлевич Лобачевский, и я, наряду с рисованием натюрмортов, пейзажей, этюдов с натуры, делал копии картин русских классиков: Васнецова, Поленова, Саврасова... Тогда и стал впервые пользоваться масляными красками, без этого запаха не могу жить и сейчас.
–í —Å–µ–º—å–µ –ø–æ–æ—â—Ä—è–ª–æ—Å—å –í–∞—à–µ —É–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏–µ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å—å—é?
Мне никто не мешал. Единственно, отец, узнав, что я хочу поступить в художественное училище, сказал: «Может, выберешь архитектурный?». Все-таки профессия художника казалась... нестабильной, архитектор же связан с промышленностью, организациями, проектами. Ну, в общем, это понятно, ведь если ты выбрал путь истинного художника, тебе придется пережить много трудностей. Советская система в этом смысле избаловала тем, что давала возможность делать халтуру: портреты Сталина, Ленина, Брежнева, членов Политбюро... На этом художники неплохо зарабатывали. Но по большому счету заниматься искусством – это роскошь. Нужно уметь себе это позволить.

Готовясь к нашей беседе, я перечитывала дневники Григория Козинцева. Кое-что в его записях показалось мне созвучным с Вашей биографией. Зачитаю Вам отрывок: ≪Когда, еще мальчиком, я решил стать режиссером, мой отец – старый доктор страшно огорчился. “Что это за дело, – говорил он мне, – развлекать людей, валять дурака, чтобы публика веселилась. Дело – дать хлеб, построить дом, вылечить”. Часто мне кажется, что отец был прав. Чтобы его все же переубедить, я взялся за Шекспира≫. Не связано ли Ваше решение стать председателем Союза художников с желанием утвердиться в глазах отца, доказать ему объективность, как писал Довлатов, своей профессии?
–í—Å–µ —Å–æ—à–ª–æ—Å—å: –º–æ–∏ –º—ã—Å–ª–∏ –æ —Ä–∞–±—Å—Ç–≤–µ, –æ —á–µ–º —è —É–∂–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –ø–æ—Ç–µ—Ä—è –∑–≤—É—á–∞–Ω–∏—è —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ ‚Äì –æ—Ç–µ—Ü –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª —É–∂–µ –Ω–∞ –ø–µ–Ω—Å–∏–∏... –ò –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ ‚Äì –≤–µ—Ä–∞ –ª—é–¥–µ–π. –î–ª—è –º–µ–Ω—è —ç—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –≤–∞–∂–Ω–æ! –û–±—ã—á–Ω–æ –∑–∞ –¥–µ—Ç—å–º–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ª–∏—Ü –Ω–µ –∏–¥—É—Ç, –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –∏—Ö –Ω–µ –∏–∑–±–∏—Ä–∞—é—Ç. –ò —è –≥–æ—Ä–∂—É—Å—å —ç—Ç–∏–º. –ì–æ—Ä–∂—É—Å—å —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –ª—é–¥–∏ —à–ª–∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π, –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã —Ç–æ–ø—Ç–∞—Ç—å –º–µ–Ω—è. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —è –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –∂–∏–ª –∏ –≤ –∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –±—ã–ª —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∏–µ–º. –ù–∞—É—Ç—Ä–æ –ø–æ—Å–ª–µ –≥–æ–ª–æ—Å–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–æ—Å—å –≤—Å—é –Ω–æ—á—å, —è –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∫ –æ—Ç—Ü—É –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Ä–∞—Å—Ç—Ä–æ–≥–∞–Ω, –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–∑–∏–ª—Å—è. –í—Å–µ –≤–∑–∞–∏–º–æ—Å–≤—è–∑–∞–Ω–æ. –í –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ–≥–æ. –í –Ω–∞—á–∞–ª–µ –º–æ–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —è –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞–ª –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫—É ¬´–ü–∞–º—è—Ç–∏ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∞¬ª. –í—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂–µ–ª–æ–µ ‚Äì –Ω–∞—á–∞–ª–æ 90-—Ö. –¢–∞–º –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –î–∂–∞–≤–∞–¥–∞ –ú–∏—Ä–¥–∂–∞–≤–∞–¥–æ–≤–∞, –°–∞—Ç—Ç–∞—Ä–∞ –ë–∞—Ö–ª—É–ª–∑–∞–¥–µ, –ì–æ—Ä—Ö–º–∞–∑–∞ –≠—Ñ–µ–Ω–¥–∏–µ–≤–∞, –ê–ª–µ–∫–ø–µ—Ä–∞ –Ý–∑–∞–∫—É–ª–∏–µ–≤–∞... –Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ –æ—Ç —ç—Ç–æ–π –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–∏ –æ–¥—É—Ä–µ–ª–∏, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏: ¬´–ú—ã –∂–∏–≤—ã—Ö –∑–∞–±—ã–ª–∏, –∞ –æ–Ω –º–µ—Ä—Ç–≤—ã—Ö –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª!¬ª. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–∞—è —ç–∫—Å–ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è, –≥–¥–µ —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ –±—ã–ª —Å–≤–æ–π –∑–∞–ª. –¢–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—ã–π –∞–±—à–µ—Ä–æ–Ω—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –≤–æ–æ–±—â–µ ‚Äì –≤–∑–ª–µ—Ç! –ö–∞–∫ –Ω–µ–æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö, —Ç–∞–∫ –∏ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤.
–ö–æ–≥–æ –í—ã –∏–º–µ–µ—Ç–µ –≤ –≤–∏–¥—É –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∞–º–∏?
Микаила Абдуллаева, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова... Все мощные ребята! Просто были художники «съедобные» и «несъедобные» для власти.
Интересно, как вырабатывается этот статус «признанности»? Ведь Тогрула Нариманбекова нельзя назвать соцреалистом, тем не менее он был популярен еще при жизни...
–ê —ç—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ: –∏–º –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ! –ü–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ü–µ—Ç—Ä –ú–∞—Ç–≤–µ–µ–≤–∏—á –ï–ª–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–æ–≤, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—å –¶–ö –∫–æ–º–ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–∞, –±–æ–ª—å—à–æ–π –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—å –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–∏. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ–Ω –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –Ω–∞ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫—É –∏ –≤–∏–¥–∏—Ç –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É –¢–æ–≥—Ä—É–ª–∞ –æ—Ç–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π. –ò –≤–æ—Ç –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –≤—ã—Å—à–µ–º—É —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã: ¬´–Ý–∞–±–æ—Ç—É —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∞ –Ω–∞–¥–æ –ø–æ–≤–µ—Å–∏—Ç—å –∏ –≤—Ä—É—á–∏—Ç—å –µ–º—É –ø—Ä–µ–º–∏—é!¬ª. –ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç–µ, –∫–∞–∫–æ–µ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ–µ —Å—Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤? –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –ù–∞—Ä–∏–º–∞–Ω–±–µ–∫–æ–≤—É –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å! –°–∞–ª–∞—Ö–æ–≤—É –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∑–∞ –°–∞—Ç—Ç–∞—Ä–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Å—Ç–æ—è–ª –≥–æ—Ä–æ–π... –í—Å–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –±–æ–ª—å—à–∏–º —Å—Ç–∏–º—É–ª–æ–º –¥–ª—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã.

–í–∞—Å –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∞ –Ω–µ –≤—ã–≤–æ–¥–∏—Ç –∏–∑ —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏—è?
Мой друг, художник Санан Курбанов как-то сказал: «Только с тобой я могу свободно общаться. Все остальные художники обижаются, если наравне с похвалами я делаю критические замечания». Но нельзя нравиться всем. Те, кто болезненно воспринимает критику, просто излишне уверены в себе и не испытывают никаких сомнений. Я никогда не сижу на своих выставках, но однажды в Москве, за день до закрытия, все-таки пришел и застал такую сцену: вижу, какой-то трудяга, в каких-то чуть ли не сандалиях – а было это зимой! – и вот вцепился в него прихрамывающий, интеллигентного вида, человек. Между ними потасовка! Мужик в сандалиях кроет хромого матом, а тот интеллигент выталкивает этого зверюгу из зала со словами: «Да это не ваше место! Здесь вам не место!». Для меня это было самым искренним обсуждением моей выставки.

«Надо уметь забывать себя», – ответили Вы как-то на вопрос об эффективном управлении. Умение забывать себя не противоречит натуре художника? Художник ведь зациклен на самом себе...
Да, художник – эгоцентрик, видит только вокруг себя, и все его обиды, невзгоды и жалобы вызваны этим. К примеру, мне рассказывают о какой-то своей проблеме, но я не смогу расслышать, если не откажусь от собственного видения искусства. Когда я рассматриваю чужой холст, я должен себя забыть. В основном 99,9% художников смотрят сквозь призму своего творчества, а это совершенно неверный путь. И даже великий Сезанн, называя работы Ван Гога живописью сумасшедшего, думаю, исходил из своего опыта и никак не сопереживал творчеству великого художника. Но если я буду все пропускать через себя, смогу я оценить по достоинству картины Горхмаза – выдающегося художника? Сезанну было наплевать, а я не имею права, я с людьми работаю.
–°—Ä–µ–¥–∏ –í–∞—à–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è –∏ –ø–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç—ã, –∏ –Ω–∞—Ç—é—Ä–º–æ—Ä—Ç—ã, –Ω–æ –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º —ç—Ç–æ –ø–µ–π–∑–∞–∂–∏. –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç–∞–∫–∞—è —Ç—è–≥–∞ –∫ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—é –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã?
Я вообще-то не очень люблю, когда говорят «пейзаж», знаете? Для меня это скорее явления природы. Меня волнует ее состояние, а не то, что я вижу перед собой. Природа притягивала меня всегда. Еще в детстве, помню, сидел на даче и смотрел – наблюдал движение ветра, заката, травы...

–ê –ø–æ—á–µ–º—É –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∞–±—à–µ—Ä–æ–Ω—Å–∫–∏–π –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç? –ü–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –ª–µ—Å–∞ –õ—è–Ω–∫—è—Ä–∞–Ω–∞ –∏–ª–∏ –≥–æ—Ä—ã –®–∞—Ö–¥–∞–≥–∞, –∫ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—É?
Я вырос на Абшероне, я все получил здесь. Архитектура, поселения, эстетика в целом... Не то чтобы она меня притягивала – я сам часть ее. Но в своих работах я вижу весь Азербайджан.
–ò–Ω—Ç–µ—Ä–≤—å—é: –ù–æ–Ω–Ω–∞ –ú—É–∑–∞—Ñ—Ñ–∞—Ä–æ–≤–∞
–§–æ—Ç–æ: –ú–∞–π—è –ë–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞